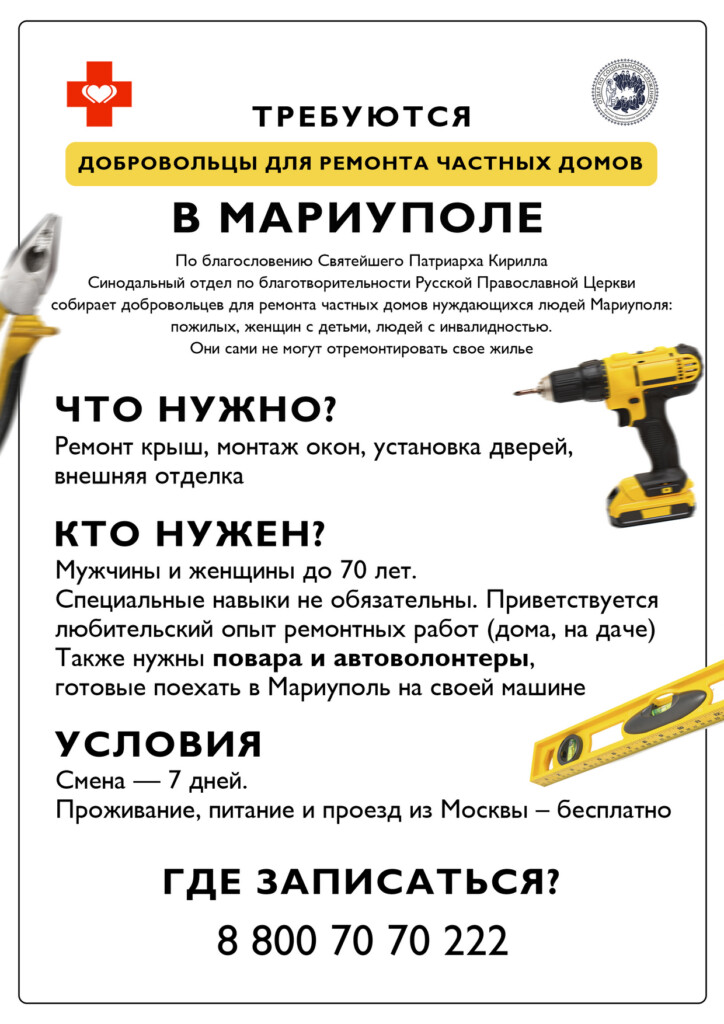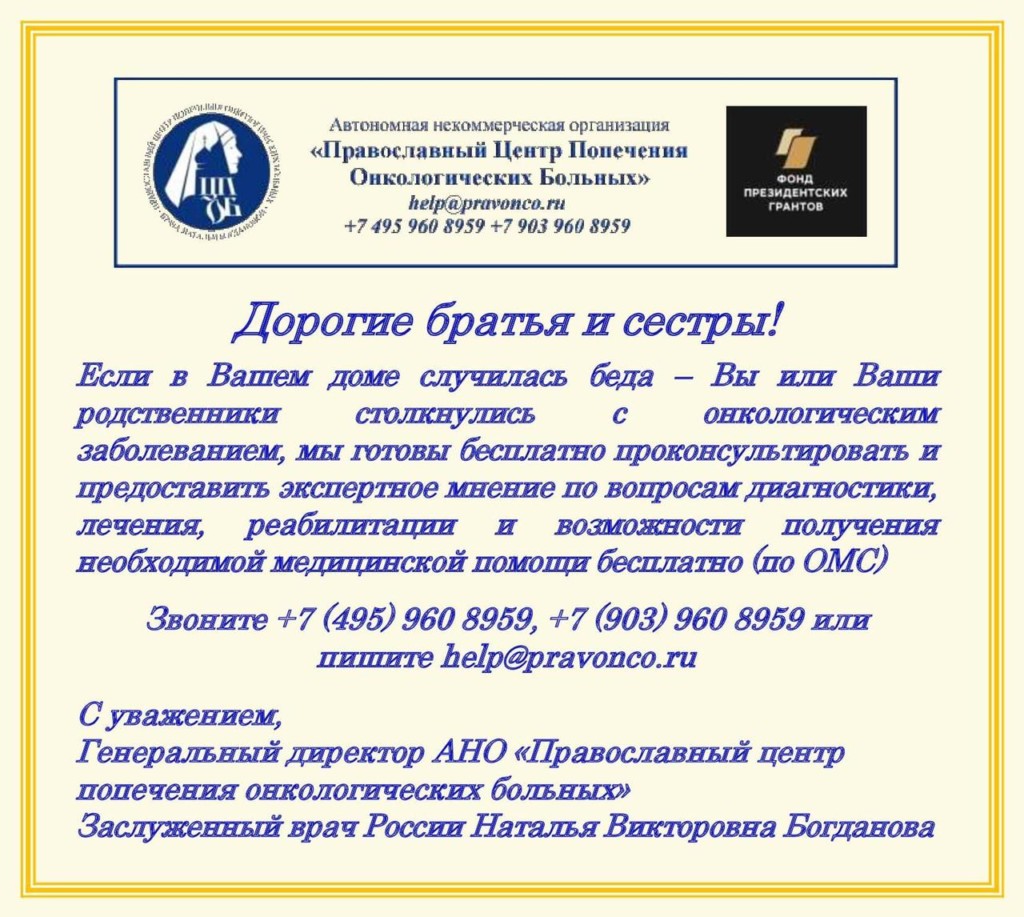Сергий Радонежский: кем был в действительности игумен для своего времени?
Кряжева-Карцева Е.В.
кандидат исторических наук,
доцент кафедры истории России РУДН
XIV век в истории России — это особая эпоха послебатыевской Руси: с одной стороны, мрачный колорит зависимости от Орды, с другой — появление тенденций централизации раздробленных княжеств. Консолидация земель вокруг Москвы предопределялась ростом политического и духовного авторитета княжества, а также притоком населения на его территории. Многие позитивные изменения в княжестве, прежде всего – духовные, не поддаются пониманию без фигуры Преподобного Сергия Радонежского, ставшей ключевой для обозначенной эпохи и для последующих этапов развития России.
Известный факт, что Сергий Радонежский, несмотря на то, что не был крупным государственным деятелем, был прославлен уже при жизни и удостоился двенадцати летописных упоминаний, спустя 30 лет после своей смерти был официально канонизирован церковью. На полках современных книжных магазинов также представлены книги о великом старце. Страницы изданий содержат стандартное описание жизненного пути святого, который родился в 1314 г. (или, по другим сведениям, в 1322 г.) в семье ростовского боярина Кирилла. Ребенка, третьего сына в семье, назвали Варфоломеем (Сергий — это имя, полученное при пострижении в монашество). Кирилл, служивший ростовским князьям Константину II Борисовичу и Константину III Васильевичу, был вынужден покинуть родной город из-за притеснений московского князя Ивана Даниловича. (Иван Калита, купивший Белозерский и Угличский уделы, силой установил свою власть на сопредельных землях Ростовского княжества; московские управители, из которых ростовчанам особенно запомнился боярин Василий Кочев, творили в этом древнем городе произвол, вершили неправый суд, отбирали имущество местных жителей и т.п.)
Боярская семья переселилась в Радонеж, в удел Андрея Ивановича, сына Ивана Московского. (Существует гипотеза, что это было насильственное переселение — по распоряжению московского князя.)
«В окрестностях Радонежа началось подвижничество Варфоломея. Вместе с братом Стефаном он поселился в глухом месте; братья поставили там келью, а затем и небольшую церковь в честь Святой Троицы. (По другой версии, Варфоломей сначала ушел в Хотьково-Покровский монастырь, где был иноком его старший брат; уже потом братья решились удалиться в Радонежский бор.) Вскоре после этого Стефан переселился в один из московских монастырей. Варфоломей же, приняв постриг в 1337 г., остался жить в лесном уединении. Через пару лет в чащобу, где обитал Сергий, стали приходить монахи, прослышавшие о молитвенных подвигах молодого отшельника. Постепенно вокруг кельи преподобного поселились иноки, стремившиеся разделить его труды и заботы. Так было положено начало одному из наиболее известных русских монастырей — Троице-Сергиевой лавре».
Кажется, что частое упоминание о святом на страницах книг — это позитивный момент, свидетельствующий о высоком авторитете Сергия Радонежского среди народа. Однако очевидна опасность слепой канонизации авторитета игумена, без попыток понимания сути помыслов и деяний Сергия Радонежского.
А ведь путь великого игумена, как и его эпоха, пронизана выбором между идеями, моделями жизнепостроения и взаимоотношений между светской и духовной властями. Тернистый путь поиска игумена раскрывается как минимум в трех ипостасях.
Во-первых, Сергий Радонежский стал активным начинателем правильного внутреннего устроения монастыря. А. Е. Петров в своей статье про святого определил принципы Сергиева построения монастырской жизни: общежитие, труд, нестяжание. Подобные устремления игумена противоречили распространенной в то время на Руси практике с раздельным житиеминоков, где сохранялось имущественное и социальное неравенство насельников. Монахи в таких обителях селились в собственных кельях (обычно за плату) и именовались келиотами. Келиоты имели право владеть личным имуществом, питались за собственный счет; за деньги можно было получить освобождение от монастырских работ. Некоторые келиоты нанимали других иноков себе в услужение.
Сергий Радонежский полагал, что подобная организация иноческого быта не соответствует духу монашества. Первоначально он видел выход в отшельничестве, но затем задумался о восстановлении древней традиции общинножительства, предполагающей, что иноки не могут владеть каким-либо имуществом, питаться из отдельного котла или уклоняться от работ, от любых видов монастырского послушания. Все вступающие в общежитийный монастырь (киновию) должны отказаться от титулов, званий, любых внешних различий, связанных с социальным положением или материальным достатком.
Епифаний Премудрый, написавший в начале XV в. наиболее известное житие Сергия Радонежского, так рассказывает о порядках, заведенных преподобным в монастыре: «Устанавливается в обители общежительство. И распределяет блаженный пастырь братию по службам: одного ставит келарем [ответственным за продовольственные запасы и приготовление трапез], а других — в поварню для печения хлеба, еще одного назначает немощным служить со всяческим прилежанием. Всё это чудесный тот человек хорошо устроил. Повелел он твердо следовать заповеди святых отцов: ничем собственным не владеть никому, ничто своим не называть, но всё общим считать; и прочие должности все на удивление хорошо устроил благоразумный отец».
Общежитийное устройство, которое вскоре стало восприниматься как норма иноческой жизни, было одобрено митрополитом Алексием и константинопольским патриархом Филофеем, отправившим русскому подвижнику специальное послание.
По мысли исследователя А. Е Петрова, «Сергиевское общежитие не есть простое следование распространенному в то время в Византии Студитскому монастырскому уставу. В Сергиевом общежитии заложена сила и деятельное начало лозунга объединения – единства для осуществления общей – общезначимой задачи, нашедшей зримое воплощение в культе Троицы». Не случайно культ Троицы со временем стал общегосударственным, и как писал П. А. Флоренский, стал воплощением «прототипа и центра культурного объединения Руси».
Во-вторых, традиционно с именем Сергия Радонежского связывают проблему исихазма на Руси. Влиянием этого мистического течения объясняют и колонизационное движение населения в сторону Москвы, во главе которого были монахи, среди которых в XIV – XV вв. широко распространился исихазм – мистическое учение Григория Паламы о достижении единства с Богом в результате ухода от людей, самососредоточения и постоянной «умной», т.е. безмолвной, молитвы. Данная установка даже звучит в российских учебниках. Сотни монахов уходили из городских «общежительских» монастырей в пустыни, отдаленные леса. Вслед за монахами в заволжские леса массово пошли и крестьяне, которые видели в пустынно-жительских скитах особую духовность и «волю».
Е. А Петров доказал, что не стоит связывать исихазм с именем Сергия Радонежского: Сергий стал монахом в 1342 г., т.е. когда исихасты паламитского толка еще не пришли к власти в Византии; путь игумена больше имеет отношение не к паламизму, а к исихии-молчанию раннехристианских анахоретов-отшельников. Кроме того, «на Руси так и не были восприняты идеи Паламы об обожении. Не привился в русском монашестве и равнодушный к мирским чаяниям индивидуализм безмолствующих в молитве (паламизм для достижения состояния обожения не предполагает ни коллективных действий, ни общей причастности благодати). На Руси уединение от мира предполагало возврат к нему через любовь. В силу общинных стереотипов в мировоззрении русскому монашеству была не свойственна концепция индивидуального спасения. Поэтому-то и целью затворничества было не столько собственное спасение, сколько служение миру примером».
Молитва, помощь страждущим и нуждающимся, воспитание учеников личным примером и наставлением — таков был круг забот преподобного Сергия. Равнодушие к земным благам и почестям было одной из наиболее ярких черт основателя Троицкой обители. Жития сообщают, что преподобный весьма неохотно согласился возглавить монастырскую братию, колебался, прежде чем принять священнический сан, отказался занять митрополичью кафедру по кончине Алексия.
Именно поэтому более уместно говорить о том, что представления Сергия Радонежского опирались на раннехристианские идеи апостольского служения, воплотившиеся в итоге в общежитийной монастырской реформе.
В-третьих, с именем Сергия Радонежского традиция прочно связывает одно из важнейших политических событий княжения Дмитрия Донского — Куликовскую битву. Некоторые жития сообщают, что Сергий благословил московского князя перед сражением с Мамаем, предсказал Дмитрию Ивановичу победу и даже отправил с его войском двух троицких иноков — Пересвета и Ослябю.
Однако, те же Жития сообщают, что Сергий избегал участия в мирских делах, хотя в некоторых случаях и вовлекался в разрешение споров между князьями или брал на себя посредническую, миротворческую миссию, как это было, например, во время конфликтов Дмитрия Ивановича Московского с Борисом Константиновичем Нижегородским, Олегом Рязанским.
Вероятно, именно по этой причине первоначальная Епифаниевская редакция Жития Сергия до нас не дошла, а в пяти, так называемых «пахомиевских», редакциях наибольшей переделке подверглись те части биографии Сергия, которые повествуют о времени активного действия игумена на общественно-политическом поприще. Возможно, акценты изменялись в угоду сложившимся идеологическим обстоятельствам.
В итоге, в литературе укоренился штамп о том, что Сергий как духовник Дмитрия Донского, оказывал всестороннее влияние на политику князя, крестил его детей, благославлял его на Куликовскую битву, сам же князь Дмитрий Донской покровительствовал Троицкой обители, что также повышало нравственный авторитет Москвы.
Ряд других исторических источников повествует об отсутствии идилии в отношениях князя и игумена, об их примирении после длительной размолвки лишь в 1385 г. (Тогда Сергий и крестил одного из сыновей Дмитрия – Петра).
Указанные противоречия говорят о том, что хронограф событий накануне Куликовской битвы, истинные взаимоотношения преподобного Сергия и князя Дмитрия, восприятие основателем Троицкого монастыря дел московских князей — это вопросы, которые еще нуждаются в дополнительном исследовании и осмыслении.
Очевидно лишь то, что вознесение Сергия Радонежского на пьедестал в виде общенационального и общегосударственного символа, безотносительно к фактическим основаниям, было продиктовано огромным воздействием личности игумена на политическое и религиозное сознание жителей русских земель в XIV в. Следствием столь сильного духовного влияния стало возникновение (уже в более поздние времена, в иных исторических обстоятельствах) представлений о национальной Церкви и о московском деле как деле общерусском.